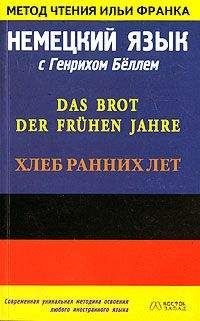Генрих Бёлль - Хлеб ранних лет

Генрих Бёлль - Хлеб ранних лет краткое содержание
Генрих Бёлль
Хлеб ранних лет
I
Я помню день, когда приехала Хедвиг, это был понедельник, и в то утро, пока хозяйка не подсунула под мою дверь отцовское письмо, я, едва проснувшись, собрался снова с головой нырнуть под одеяло, совсем как прежде, когда жил в интернате, где частенько начинал понедельники именно так.
Но хозяйка из коридора крикнула:
— Вам письмо! Из дома!
И едва она протолкнула письмо под дверь, едва белоснежный прямоугольник с тихим шелестом скользнул в серую муть штемпеля, я сразу разглядел на конверте тревожный овал — письмо было срочное.
Отец ненавидит телеграммы, и за все семь лет моей самостоятельной городской жизни он лишь дважды присылал срочные депеши с овальным штемпелем: в первой сообщал о смерти мамы, во второй — о несчастье с ним самим, когда он сломал обе ноги, и вот теперь третье письмо. Я надорвал конверт, и, только дочитав до конца, перевел дух. «Надеюсь, ты не забыл, — писал отец, — что дочка Муллеров Хедвиг, для которой ты подыскивал комнату, приезжает сегодня, поезд будет у вас в 11.47. Постарайся ее встретить, цветов купи и вообще будь с ней поласковей. Представь, каково у нее на душе: девочка первый раз едет в город совсем одна, не знает ни улицы, где будет жить, ни как добраться, вокруг одни чужие лица, а в полдень на вокзале всегда толкучка, она там вконец растеряется. Сам посуди: ей всего двадцать, она хочет стать учительницей и вот приехала в незнакомый город учиться. Жаль, что ты не можешь больше навещать меня каждое воскресенье, очень жаль. Искренне твой — отец».
Я потом часто размышлял, как бы все обернулось, не встреть я тогда Хедвиг на вокзале: я угодил бы в иную, совсем иную жизнь, как по ошибке садишься не в свой поезд, — в жизнь, которая прежде, до встречи с Хедвиг, казалась мне «вполне терпимой». Так, по крайней мере, я мысленно ее называл, эту жизнь, что стояла для меня наготове, как поезд по другую сторону платформы, в который я чуть было не угодил, — это сейчас, снова и снова прокручивая ее в воображении, я понимаю, что жизнь, казавшаяся мне «вполне терпимой», была бы сущим адом; я вижу себя в этой жизни, вижу свою неприкаянную улыбку, слышу свой голос — так порой видишь во сне брата-близнеца, которого у тебя никогда не было, хоть ты и знаешь его улыбку, слышишь его голос — улыбку и голос того, кто жил за долю секунды до тебя и всего лишь миг, пока семя, несшее в себе его жизнь, не пропало втуне.
Помню, я еще удивился, с чего вдруг отец именно это письмо вздумал отправить срочной почтой, и даже не знал, смогу ли выкроить время, чтобы встретить эту самую Хедвиг, ведь с тех пор как я работаю техником по ремонту и профилактике стиральных машин, выходные и понедельник у меня самые бойкие дни. Потому что как раз по субботам и воскресеньям отцы семейств торчат дома и обожают повозиться со стиральными машинами, дабы удостовериться в отменном качестве и безотказности новоприобретенной модной и дорогой игрушки; — ну, а мне остается только сидеть на телефоне и ждать вызовов, по которым приходится порой тащиться бог весть куда, на самую окраину, а то и в пригород. Едва зайдя в дом, я уже с порога чую вонь пережженных контактов и паленой резины или обнаруживаю на кухне пышные сугробы мыльной пены, что ползет из пасти агрегата, словно в мультфильме, я застаю затравленных мужчин и рыдающих женщин, которые из нескольких кнопок, что им полагалось нажать, одну нажать забыли либо, наоборот, нажали два раза, и тогда я упиваюсь собственной вальяжностью, неспешной деловитостью, с какой достаю из сумки инструменты, упиваюсь своим сосредоточенным видом, когда, нахмуря лоб и для важности слегка выпятив губы, сперва тщательно выискиваю, а затем устраняю неисправность, колдуя над ручками и кнопками, проводами и контактами, упиваюсь ровной любезностью своей улыбки, с которой я, залив воду и строго по инструкции насыпав нужную дозу стирального порошка, включаю машину и снова объясняю хозяевам порядок всех операций, а после, уже моя руки, снисходительно выслушиваю дилетантский лепет главы семейства, который счастлив, что его технические познания, оказывается, кто-то принимает всерьез. И, разумеется, он обычно уже не слишком вникает в такие мелочи, как время работы и километраж проезда, проставленные мной в квитанции, а я все с тем же невозмутимым видом сажусь в машину и качу к месту очередной домашней катастрофы.
И так по двенадцать часов в сутки, без выходных, и лишь от случая к случаю вечерок в кафе Йооса вместе с Вольфом и Уллой; а по воскресеньям вечерняя месса, на которую я обычно опаздывал, и, войдя, первым делом я испуганно смотрел на священника, стараясь по его жестам угадать, начался сбор пожертвований или еще нет, и облегченный вздох, если сбор не начался, и усталость, что необоримо влекла меня на ближайшую же скамью, где я порой тут же засыпал, пробуждаясь лишь от звона колокольчика, которым причетник извещал о конце службы. В иные часы я ненавидел себя, свою работу, свои руки.
В тот понедельник усталость навалилась прямо с утра, от воскресенья оставалось еще шесть вызовов, и я слышал, как хозяйка в прихожей говорит кому-то по телефону:
— Да-да, я обязательно ему передам.
Я сел на кровати, закурил и стал думать об отце.
Я видел, как у нас, в Кнохте, он тащится вечером через весь город на вокзал, чтобы отправить письмо с десятичасовым поездом; видел, как он бредет по площади мимо церкви, мимо дома Муллеров, потом узкой аллеей вдоль истерзанных, покалеченных деревьев; как после, чтобы срезать путь, он отпирает тяжелые ворота гимназии и, ступив под темные своды арки, входит на школьный двор, и взгляд его, привычно скользнув по желтой штукатурке стен, сразу отыскивает окна его, отцовского, класса; как он обходит дерево посреди двора, ствол которого провонял мочой — его исправно метит собака школьного смотрителя; я видел, как отец отпирает своим ключом заднюю калитку, открытую обычно лишь от без пяти восемь до восьми специально для приезжих учеников, что спешат в школу с вокзала, а Хоншайд, наш смотритель, стоя возле калитки на страже, бдительно следит, дабы свои, местные, не воспользовались льготой для приезжих, — к примеру, Альфред Груз, сын начальника станции, которому приходилось ежедневно делать длинный, нудный крюк, огибая целый квартал, только потому, что он был «из местных».
Летними вечерами закатное солнце алым заревом разливалось в незрячих окнах школы. В последний год, что я жил в Кнохте, мы с отцом часто ходили этой дорогой на вокзал отправить матери письмо или посылку с поездом, который идет в противоположную сторону и в половине одиннадцатого прибывает в Брохен, где мать тогда лежала в больнице.
И обратно отец обычно вел меня той же дорогой через школьный двор, это сокращало путь минуты на четыре, к тому же не надо было обходить унылый жилой квартал с его безобразной казенной застройкой, а кроме того, отцу, как правило, нужно было прихватить из школы книгу или стопку тетрадей. При воспоминании о тех летних воскресных вечерах в пустой гимназии на меня до сих пор накатывает тоска: серый полумрак коридоров, нелепые, сиротливые гимназические фуражки, позабытые на вешалках возле классных дверей, поблескивающий свежей мастикой пол, тусклое мерцание бронзовой позолоты на памятнике павшим гимназистам, над ним белоснежным пятном — зияющий прямоугольник на стене, где прежде висел портрет Гитлера, а возле учительской кроваво-красным бликом отсвечивает ворот мундира на портрете Шарнхорста.
Однажды я решил стащить заготовленный, уже с печатью бланк гимназического аттестата, что лежал на столе в учительской, но бланк оказался таким неподатливо жестким и так зашуршал, когда я попробовал сунуть его под рубашку, что отец — он стоял возле книжного шкафа — обернулся, гневно выхватил глянцевитый лист у меня из рук и бросил на место. Он не стал его расправлять, разглаживать и не попрекнул меня ни словом, но с того раза мне полагалось ждать в коридоре один на один с кроваво-красным воротником Шарнхорста, один на один с алыми губами Ифигении на картине возле дверей старшего класса, на мою долю было оставлено лишь ожидание, темно-серый полумрак коридора да еще изредка, для разнообразия, взгляд через глазок в унылую пустоту классной комнаты. Как-то раз я нашел на свеженатертом полу червонного туза — того же алого цвета, что и губы Ифигении, что и воротник Шарнхорста, а сквозь резкий запах мастики слабо пробивался дразнящий аромат буфета, школьных завтраков. Возле каждой двери на линолеуме был ясно различим круглый след от огромной суповой кастрюли, и запах горячего супа, одна только мысль об этой кастрюле, которую в понедельник принесут и поставят у дверей нашего класса, будили во мне такой голод, что ни кровавый воротник Шарнхорста, ни алые уста Ифигении, ни красное сердечко червонного туза не могли его заглушить. И когда мы отправлялись домой, я всякий раз начинал упрашивать отца заглянуть к Фундалю, владельцу пекарни, просто заглянуть — и все, сказать «добрый вечер» и как бы невзначай спросить, не осталось ли у него буханки хлеба или куска темно-серой коврижки с прослойкой повидла посередке, красного, как воротник Шарнхорста. И пока мы темными, глухими переулками брели к дому, я проговаривал отцу весь диалог, который следует провести с Фундалем, дабы придать нашему визиту налет случайности. Я сам дивился своей изобретательности, и чем ближе подходили мы к лавке Фундаля, тем настойчивее были мои мольбы и тем непринужденнее звучал воображаемый диалог, который отцу надлежало провести с Фундалем. Отец только энергично тряс головой, сын булочника учился в его классе, и учился плохо, но когда мы подходили к дому Фундаля, он в нерешительности останавливался. Я знал, как ему противно, но упрямо твердил свое, и отец всякий раз, словно солдатик в кинокомедии, как-то залихватски, по-строевому, всем корпусом поворачивался и, подойдя к двери, нажимал кнопку звонка, — это в воскресенье, в десять вечера; дальше неизменно разыгрывалась одна и та же сцена: кто-то из домочадцев Фундаля, но сам он — никогда, открывал дверь, отец смущенно мялся, от волнения забывал даже сказать «добрый вечер», и сын Фундаля, дочь либо супруга, — словом, тот, кто стоял перед нами в дверях, кричал куда-то назад, в темную глубину прихожей: